Спасибо большое, ребят! Вы лучшие!!!
Чтобы никого не путать, распишу ниже очередь, чтобы все могли посмотреть свои дедлайны!
Дедлайны теперь можно узнать по ссылке
(сообщение обновлено 14 октября)
Чтобы никого не путать, распишу ниже очередь, чтобы все могли посмотреть свои дедлайны!
Дедлайны теперь можно узнать по ссылке
(сообщение обновлено 14 октября)





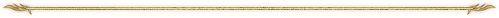




 awwww я думаю мы наиграем кристаллики *чмок* ♥
awwww я думаю мы наиграем кристаллики *чмок* ♥ 




































![de other side [crossover]](https://i.imgur.com/BQboz9c.png)



















